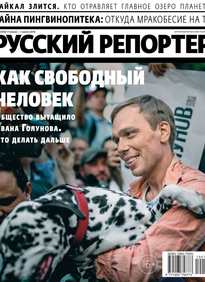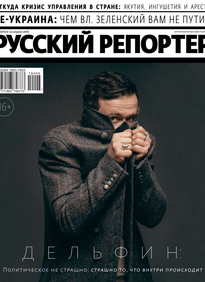ТОП 10 лучших статей российской прессы за Март 6, 2017
Имеющий дело с жизнью
Автор: Марина Ахмедова. Русский Репортер
Александр Ткаченко хотел быть моряком, а стал священником. Став священником, он считает своим главным делом службу обществу — детский хоспис. Он признался, что является «человеком потрясенным», но рассказывает, что для детей все вокруг — часть жизни, они спокойно обсуждают смерть. Дети обычно мужественнее, но говорить с ними сложнее, чем со взрослыми, дети сначала проверят, насколько ты настоящий. Хотя взрослые, по его словам, — тоже дети. Он против абортов, но за выбор женщины, в том числе в этом. Он полон парадоксов, наверное, потому что близок к самой главной тайне
«Зеленые динозавры шевелятся, пьют, чешутся, гуляют, читают, нюхают, злятся, ходят в магазин за покупками, смеются, говорят, играют, думают, чувствуют, мерзнут, дышат, греются, когда светит солнце. У них бьется сердце. Они — живые. Они умирают. Всегда. Но одни живут долго, а у других жизнь короткая, как мизинчик у новорожденного. И если сравнивать старого динозавра и только что родившегося, то не обязательно, что последний проживет дольше. Недостаточно едва родиться для того, чтобы прожить дольше старика. Но большинство зеленых динозавров живут долгой жизнью до глубокой старости. Просто иногда в их жизни случается болезнь. А еще, но это реже, случается насилие. Например, кто-то кого-то убивает. Например, на войне».
Так говорит пособие по умиранию, лежащее на столе в зале с кремовыми обоями.
Протоиерей Александр Ткаченко ходит по дорожке парка, окружающего детский хоспис. В это время в парке неуютно и дует ветер, шевеля полы протоиереева пиджака. Утром Ткаченко выступал на медицинской конференции. Он — основатель детского хосписа. Тут территория парка Куракина дача, и когда-то в этом самом здании, где теперь детский хоспис, управляемый Ткаченко, располагался Николаевский сиротский пансион. На лацкане его уходящего в синий пиджака — крест. Перед входом — металлические цветные конструкции. Качели для детей на инвалидных колясках. Еще семь лет назад таких не было — не в Питере. Ткаченко привез их из Англии. А ту игровую площадку — из Швейцарии. Коляски у детей этого хосписа — электрические. Скорость развивают до тридцати километров в час. Однажды протоиерей сам сел в такую прокатиться — вжи-и-х и в-у-у, страшно!
Когда-то, пожелав набраться опыта и посмотреть, как работают такие учреждения для детей в Европе, Ткаченко посетил хоспис в Англии. С него взяли двести долларов за визит, завели в небольшую комнату, вроде той — с камином, где лежит пособие по умиранию зеленых динозавров — спросили, что протоиерея интересует, ответили на все его вопросы, показали библиотеку, столовую и часовню. А в палаты не пустили.
— Там за дверью — пациент, — сказано было таким тоном, будто одно лишь колебание воздуха от чужих шагов могло спугнуть дух, установившийся в палате. Тот самый, который позже протоиерей захотел впустить в палаты своего хосписа, назвав их «святая святых».
— Хоспис — это место, где пациенты живут, — проговаривает он слова, которые первым делом скажет делегации журналистов. — И если мы хотим туда зайти, мы стучимся и спрашиваем разрешения… Но лучше туда вообще не заходить, — последних слов он журналистам говорить не собирается.
Не будь такого ветра с Невы, Ткаченко показал бы журналистам парк.
Протоиерей Ткаченко провел сотни экскурсий по хоспису — для чиновников от здравоохранения, для чиновников от администрации, для журналистов, а недавно для самого патриарха. Он знает в хосписе каждый уголок.
— Моей задачей было сделать так, чтобы это место не было похоже на больничку, — начинает он, ведя за собой процессию ко входу. — Я хорошо знаю советские больницы, и во мне было сильное желание изменить такой подход. Поэтому у нас большой холл, и никаких регистратур, никаких гардеробов и прочего.
В буфете разные часы — в виде кофейника, рыбы, стаканчика мороженого, овцы — показывают разное время: ровно пять, семь, полшестого или полдвенадцатого. Игрушечные феи со стеклянными крыльями трудятся на полках, замешивая суп в котелке, нарезая салат, укладывая в коробки трюфельные конфеты.
— Время зависит от состояния, — говорит Ткаченко. — Когда оно течет медленно, а когда — раз! — и его уже не осталось. Поэтому у нас много часов.
Он ведет по белым коридорам, где одинаковые двери — белые, со вставками непроницаемого стекла. Распахивает одну из них, стены загораются разными цветами, звучит музыка, а в иллюминаторах на полу распускаются цветы, на которых сидят бабочки, и откуда-то сбоку бьют лучи неестественно синего солнца. В другом иллюминаторе — подводный мир, кораллы и красная вода. Глядя в них, можно вообразить: в этом здании сиротского приюта так долго томились детские души, что секретный потусторонний дивный мир сам приоткрылся для них круглыми окнами.
— В силу возраста или заболевания пациент не может выразить себя при помощи слов. Он нажимает на кнопки, и цвет, свет, его интенсивность и скорость меняются. Так пациент показывает, что он чувствует. А это секретики, — указывает на иллюминаторы. — Помните, как в детстве — можно было подолгу лежать и смотреть на секреты. А это млечный путь, по нему можно ходить и менять его цвет… А это кресло-качалка, в нем — ощущение полета.
В конце коридора мелькает инвалидная коляска, уезжая в сторону так быстро, что не успеваешь рассмотреть, кого она везет. Из лифта выходит женщина с бледным ребенком на руках и исчезает в одной из дверей так быстро, словно каждый житель этого хосписа желает поскорей пересечь коридор и скрыться в палате, где начнется иная, одним им ведомая жизнь.
— А в этой комнате рисуют, — протоирей распахивает новую дверь. — Берем раствор, добавляем в него краски и дуем через трубочку, получаются пузыри. А мама, увидев, что ее ребенок сделал что-то красивое, может им гордиться.
Ткаченко размашисто шагая из комнаты в комнату, запальчиво отрывает шкафчики, показывает детские сокровища и, кажется, в точности, до мельчайших деталей знает, где что лежит и кто куда что положил. В 2003 году он основал службу выезда на дом к тем детям, которым лечение уже не помогало, но им было больно, и служба снимала боль — в течение семи лет, пока не появился этот дом, оснащенный таким количеством медицинских новинок и игрушек, что кажется — был он задуман для тех детей, которые научились не взрослеть и собираются прожить здесь вечно.
Протоиерей вынимает из шкафа игрушки, отделяя красивые от страшных.
— Страх, — произносит он. — Страх постоянно присутствует в нашей жизни, мы все время либо радуемся, либо страдаем. Неконтролируемый страх вылезает в виде снов и навязчивых идей. Если выразить его через игрушку, через рисунок, он станет контролируемым и его можно будет описать. Его можно будет порвать и выбросить. Даже взрослый может порвать и выбросить свой страх. Мы считаем себя взрослыми, но на самом деле мы дети. А маленькие дети просто искренней, чем мы.
Протоиерей останавливается у стены, чтобы дать возможность следующим за ним прочесть приклеенные к ней записки — заповеди детей хосписа:
«Если ты не инвалид, то это не твоя заслуга. А если инвалид — то не твоя вина. Если ты не инвалид, ты не должен обращаться со мной как с ребенком. Даже если я все еще могу радоваться мелочам как ребенок. Но ты должен называть меня моим настоящим именем, ведь за уменьшительно-ласкательными ты прячешь свое кажущееся превосходство, а ты не должен жалеть меня. Ты не должен решать за меня, довольно и того, что я и так во многом завишу от помощи других людей».
Протоиерей спускается по лестнице в полуподвал, где, впрочем, стены такие же белые, а двери — непроницаемо-стеклянные, и, прежде чем войти в следующую комнату, замирает, дотронувшись до ее ручки.
«Когда зеленые динозавры умирают, они перестают дышать, улыбаться, плакать, говорить, ходить в магазин, шевелить рукой или ногой, терпеть, петь, знать, что над головой — небо, что небо — голубое. В голове зеленого динозавра мозг больше не посылает и не получает сигналов. В груди зеленого динозавра сердце перестает биться. Зеленый динозавр не чувствует, не играет, не нюхает, не кушает, не любит. Зеленый динозавр больше не жив».
Из пособия, лежащего на столе в пока по-прежнему пустом каминном зале с кремовыми обоями.
Здесь в подвале за идеальным ремонтом чувствуется сырость от близости Невы.
После короткой заминки, какая случается, когда человек знает, что входит не в пространство, заполненное чем-нибудь мягким, протоиерей ступает в комнату. Посередине — узкая кушетка, на которой не уместится взрослый, а только лишь одинокий и обязательно неподвижный ребенок. Она покрыта новым голубым бельем, даже с виду неудобным для того, чтобы на нем лежать, шевелиться, чесаться, чихать, переворачиваться и дышать. За кушеткой — иконы на полках. В комнате есть окно. За его занавеской — не парк Куракина Дача, не будоражащие ветры Невы и не детская площадка, привезенная из Швейцарии. За ней по нарисованному небу улетают нарисованные птицы.
Протоиерей Ткаченко делает несколько вдохов прежде, чем начать говорить:
— Когда в нашем хосписе умер первый пациент, мы вызвали специальную машину. Приехали два мужика в грязных сапогах, положили тело в черный мешок и бросили его на дно газели. Ужас от увиденного потряс нас. Мы пытались наполнить последние недели жизни человека какими-то событиями, а тут этот размашистый жест — и тело на дне «газели»… Мы захотели изменить отношение общества к телу. Тело священно. Друг друга мы знаем чисто физически — на ощупь, на запах, на вид. И почему же, когда заканчивается биологическая жизнь, настолько меняется отношение к телу? Тогда мы создали вот эту комнату, тут окна — ненастоящие, тут разовое белье… Здесь начинается процесс горевания, здесь родители получают возможность попрощаться с ребенком. Потом их сознание будет рождать много страхов, тяжелых образов, и горевание может длиться годами, если родителям не дать возможности посидеть рядом с ребенком, погоревать. Им будет казаться: «Нет, этого не может быть! На самом деле его куда-то увезли в неизвестное место». Да, конечно, родители знают о существовании этой комнаты. И некоторые заходят сюда посмотреть. Некоторые начинают готовиться заранее. А понимаете, здесь правил — нет! Кто-то считает, что хоспис — это следующий этап лечения. Паллиативная помощь может длиться годами. Просто мы знаем, что какое-то заболевание имеет негативный прогноз.
«В зеленом динозавре может проснуться ярость. Зеленому динозавру могут начать сниться страшные сны. Во сне за зеленым динозавром может гнаться кто-то страшный. Зеленый динозавр может злиться. Может голодать. У него может болеть, хотя он нигде не поранился и не заболел. Так бывает, когда у того, кого любит зеленый динозавр, перестает биться сердце, а мозг — посылать и получать сигналы. Так бывает, когда другой зеленый динозавр умирает. Живой зеленый динозавр может не хотеть видеть других зеленых динозавров. И хотя такая реакция — нормальна, все же если зеленый динозавр не заплачет, с ним с самим может приключиться беда. Но если зеленый динозавр правильно попрощается с другим зеленым динозавром, у которого больше не бьется сердце, то он не доведет себя до беды. Но как попрощаться — он должен решить сам».
Из пособия по умиранию.
Протоиерей Ткаченко усаживается в удобное кресло в зале с камином.
— Мы хотели в каждое помещение вложить философию, — обращается он к рассевшимся перед ним журналистам. — К нам приезжают учиться. Очень похожим на наш построили казанский хоспис. А мы строим еще один хоспис для детей Ленинградской области, — рассказывает он, под «мы» имея в виду хоспис. — Еще один будет в Домодедово Московской области. Ничего удивительного в том, что у церкви получается это делать. Церковные люди к созданию больницы подходят не так, как светские, прошедшие обучение в медицинских университетах. Сознание церковных людей не забито существующими условностями, они строят то, что считают благом для человека… Мы строим новые хосписы, и поэтому может показаться, что растет количество заболевших, но на самом деле просто выявлять заболевания начали лучше. А есть заболевания, которые раньше не лечились. Еще один аспект — сейчас научились выхаживать новорожденных детей весом меньше пятисот граммов. Большинство из них — впоследствии пациенты нашего хосписа. Да, мы можем на каком-то этапе беременности предупредить маму об этом, и она примет решение — рожать или нет. Традиционные конфессии говорят, что аборт делать нельзя, соответственно, нужно готовить ее к тому, что она, скорее всего, будет иметь ребенка-инвалида. Она должна знать правду. Но, с другой стороны, сообщив ей эту правду, общество не должно оставлять ее наедине с этой проблемой. Оно не должно оказывать давления на нее во время принятия решения. Я считаю такую позицию честной. Социальная доктрина церкви говорит о том, что здоровье матери является ценным.
На сайте хосписа под фото улыбающегося Ткаченко написано: «Сорок тысяч детей в России нуждаются в помощи паллиативных служб. Им нужны не только медицинские услуги, но и медицинская поддержка, социальная и духовная помощь». Тут же на сайте можно оставить заявку на ознакомительный визит в хоспис. Ткаченко считает, что когда-нибудь все хосписы в России станут похожими на этот, отстроенный на средства благотворителей и переданный государству, оплачивающему лечение пациентов — на красивый мир с феями и часами, показывающими разное время, где качественно, достойно и счастливо проживается короткая жизнь маленького человека.
— Закройте дверь, — просит Ткаченко, когда за открытой дверью мелькает инвалидная коляска. — Мы не обсуждаем пациентов и темы, связанные с пациентами, если кто-нибудь из них находится поблизости. …Вот мальчик — Вася, — продолжает Ткаченко, — вы его только что видели. Пока он успешно лечится, но его состояние, согласно уже имеющемуся у нас опыту, вызывает опасения. Он бывает в хосписе все чаще и чаще. Есть генетические заболевания, при которых ребенок может дожить до взрослого возраста, если получает сопутствующую терапию. Он учится в школе, он мотивирован жить. У детей нет опыта смерти. Нет трагизма, связанного с опытом потери. Смерть — это путешествие. Грустно уезжать, но ведь и там — другая жизнь.
Для маленького ребенка все живы. Солдатики живы, герои мультика — живы. Ты играешь в войну, тебя убили, ты падаешь, но у тебя в запасе еще три жизни… В хосписе смерти нет. Она есть у взрослых. Дети поразительно легко смерть обсуждают: «Ты помнишь Ваню из пятой палаты? Он вчера умер». Легко, даже если у Вани было такое же заболевание, и для ребенка несложно сделать следующий логический шаг и понять, что будет с ним самим. Они живут рядом со смертью. Смерть — часть их жизни. В хосписе смерти нет, здесь есть жизнь, просто другая жизнь…
Тут никого не нужно убеждать жить. Ребенок просто живет. Здесь я практически не встречал глубокой депрессии и суицидальных желаний. Но был другой случай: мальчик не хотел проходить очередной этап лечения. Родители никогда не могут сказать: «Все бесполезно, больше ничего делать не будем. Станем просто наслаждаться пением птиц». Но ребенок чувствовал, что происходит с его телом, он имел право выбирать. У него уже были метастазы в легких. У нас с ним был серьезный разговор. Он сказал: «После химии у меня голова дурная. А голова — это единственное, что у меня осталось. Не лишайте меня этого. Дайте мне быть самим собой, а не тем, что делает со мной химия». Да, дети часто мужественнее взрослых. Но со взрослыми и говорить проще, а с детьми директивно — нельзя. Только они сами побуждают тебя говорить с ними напрямую, вопросы задают, к сути подводят. Сначала как будто проверяют — можно тебе доверять или нет, сможешь ли честно ответить на вопросы. А потом спрашивают — неожиданно, напрямую. И ты оказываешься в такой растерянности, — воспроизводя растерянность движением руки, протоиерей Ткаченко берет со стола книгу «Почему умирают динозавры?». — Но это же не ужасно, — говорит он, листая ее. — Все же знают, что динозавры вымерли.
«Даже взрослые зеленые динозавры не могут понять много, касающегося смерти. Даже они не знают, что их ждет после нее. У каждого динозавра свое мнение на этот счет. Кто-то думает, что динозавр, у которого перестало биться сердце, отправился в путешествие, просто из него не возвращаются, но в нем можно снова встретиться, настигнув того, кто ушел раньше, в пути. А кто-то думает, что динозавр, у которого перестало биться сердце, отправился на небо, чтобы оттуда вместе с Богом смотреть вниз на оставшихся живыми. Кто-то — что он стал маленьким, незаметным и переселился в сердце тех, кто его любит, иначе разве стали бы живые зеленые динозавры так часто думать о нем?»
Но, какие бы там вопросы ни возникали, книга, которую протоиерей держит в руках, рекомендует обращаться с такими вопросами к родителям или духовному наставнику. Протоиерей поднимается из кресла, чтобы попрощаться с гостями. Он поступил так, как поступили с ним в Англии, — провел людей по всем лестницам и коридорам этого дома, не открыв ни одной запретной двери и не открывшись сам.
Утро. Протоиерей только что проводил крупного регионального чиновника. Он сидит в другом кресле, в том же зале с камином. Пасмурный день поблескивает на стеклах его очков. Он снова в костюме с крестом на лацкане. Протоиерей пьет кофе, заваренный для него так, как обычно.
— Почему вы вообще занялись хосписом? — спрашиваю его.
— Не знаю, — отвечает он. — Судьба так сложилась. Ко мне приходили люди и просили помощи. Я видел, как состояние людей ухудшается, видел, что им требовалась помощь не только на время лечения, но и после того, как их выписали домой, сказав, что лечение больше невозможно. Во второй части этого пути помощь не оказывалась. Хотите узнать мои мотивы внутренние?
— Да.
— Хорошо… — помолчав, он начинает. — Первое сентября, тысяча девятьсот восемьдесят девятый год. Первый класс семинарии. Преподаватель на первом уроке знакомится с нами и спрашивает каждого из нас, что его привело в церковь. Начало оттепели. Отношение к церкви немного меняется. Каждый из нас рассказывает свою историю. А в конце преподаватель нам говорит: «Вы все, без сомнения, очень талантливые люди. И церковь даст вам все необходимое для того, чтобы реализовать себя и быть счастливыми. Но это не значит, что она всегда будет ждать от вас того, чтобы вы для нее что-то делали». Впоследствии у меня получилось создать хоспис.
— Вы его для церкви создавали?
— Нет, я ничего не делал для церкви. Я — человек церковный — пришел в церковь, чтобы служить обществу. Это наше мировоззрение.
— Когда вы помогаете детям, вы поступаете как человек от церкви или как просто человек?
— Я делаю то, что считаю правильным, и как человек от церкви, и как гражданин, и как руководитель учреждения, который больше понимает в помощи, чем другие.
— А человек от церкви сильно отличается от человека, который не верит в церковь, но помогает и хочет помогать?
— Желание делать добро у всех одинаковое. Но в случае человека, который не верит, оно мотивировано желанием принести благо обществу. А в случае людей церкви оно наполнено более глубоким смыслом — идти путем уподобления Христу. Мы называем себя учениками Христа.
— А если бы Иисус прямо сейчас пришел в наш мир, как вы думаете, куда бы он отправился в первую очередь?
— Если мы говорим о втором пришествии, то мир бы изменился после Него.
— Или Христа бы снова распяли неузнанного… Но куда бы он пошел, как вы думаете?
— В самое грустное место на земле — в районную поликлинику. Там средоточие боли.
— Но и в хосписе боль есть.
— Она везде есть. Боль живет не в пространствах, боль живет в душах.
— Значит, в хоспис Христос бы не зашел?
— Патриарх сказал: «Хотите встретить Бога — идите в детский хоспис». Но кто-то видит Бога посреди бури, а кто-то — посреди дуновения легкого ветерка.
— А вы посреди чего его видите?
— Я вижу Его в судьбах.
— Несчастливых?
— Я не знаю, что такое несчастливая судьба. Но знаю, что в самый тяжелый для человека период Господь всегда рядом. У людей, которые тут, — не несчастливая судьба. Она просто у них другая. Люди, не знакомые с их жизнью, выносят о ней свои суждения, и чаще всего неправильные. Спросите у них самих…
— Вы к ним не пустили.
— У каждого своя история…
— И вы создали для всех этих историй один маленький, но волшебный мир…
— Я создал просто учреждение здравоохранения. Надеюсь, что и другие, включая районные поликлиники, станут такими. Это просто высокий стандарт качества, к которому надо стремиться. Это не эксклюзивность в здравоохранении, это должно быть нормой. Мы не создавали красивую обстановку — мы пытались создать уютную атмосферу, чтобы людям здесь было комфортно даже в мелочах.
— Вы представляете себе место, куда уходят умершие дети?
— А-а-а… В Священном Писании есть такая фраза: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Места того не описать, но мы знаем, что когда завершается жизнь человека, он встречается со своим Создателем, он может лицом к лицу говорить с Богом, он будет стоять рядом с Ним. И встреча эта облагораживает душу. Жизнь продолжается, и человек остается тем, кем он был, — помнящим все, чувствующим, все видящим и все знающим. Только тела не имеющим. Такова основа мировоззрения православной церкви.
— То есть вера в Бога помогает вам работать здесь?
— Вы просто пытаетесь навязывать мне мысль о том, что моя работа тяжела. Нет, просто мне нравится, что у меня есть мировоззрение, есть представление о том, как устроен этот мир, кто этот мир придумал, кто заложил принципы и какие. Мое мировоззрение — целостное, оно отвечает на вопросы.
— А в вашем мироустройстве так задумано, что некоторые дети заболевают и рано покидают этот мир, или их уход — сбой программы?
— Когда Бог создал мир, он дал человеку свободу. Поэтому и зло появилось в мире.
— Из человека?
— Не из человека, а из-за человека. Человеку делать зло стало легче, чем делать добро. Болезни и что-то страшное иное — не проявление Божьей воли.
— В этом хосписе у вас есть любимое место?
— Не знаю, — вздыхает. — Я знаю здесь каждый уголок. Я воспринимаю его как дом, мне здесь хорошо.
— А нелюбимое?
— Таких мест нет.
— А та комната, в которую вы вчера нас заводили?
— Грустная комната… — сразу понимает он, о какой речь.
— С голубой кушеткой…
— Это просто комната, в которой окажется каждый. Это твоя комната. Надо привыкнуть к тому, что когда-нибудь эта комната будет твоя, и когда-нибудь и по тебе зажгут свечку. Кто знает, когда? Времена и сроки определяем не мы.
— Но тем не менее, когда туда попадают маленькие…
— Это неправильно, конечно… — спешит он. — Но в той комнате Бога чувствуешь всеми фибрами своего существа, — говорит он очень тихо, словно не желая спугнуть Всеслышащего, который этажом ниже. — Та комната — святилище, алтарь. В ней совершается таинство рождения человека в вечность. Я не знаю, что испытали вы, войдя вчера в нее, но в той комнате нет пустоты. Приходишь в городские морги, там пусто, одиноко и страшно. А в той комнате этого чувства нет. Но есть чувство присутствия Личности, перед которой мы благоговеем… Вы помните, я вчера рассказывал о нашем первом столкновении с соответствующими службами, которое побудило нас эту комнату создать? Сейчас к нам приезжают сотрудники здравоохранения, чтобы познакомиться с нашим опытом и создавать такие же комнаты в нашем формате.
— Вы чувствуете себя счастливым?
— Да.
— Но вы постоянно имеете дело со смертью…
— Я имею дело с жизнью. А смерть — часть жизни. Я люблю жизнь. Люблю находиться с людьми на разных стадиях их жизни.
— Но большинство людей соприкасаются со смертью лишь несколько раз в жизни, когда умирают их близкие, а на вашу одну человеческую жизнь, по вашему же собственному выбору, приходится слишком большая частота смертей.
— Частота смертей на квадратный сантиметр времени… Я делаю то, что мне нравится, и мне нравится то, что я делаю. Я реализую себя как священник и как руководитель учреждения.
— Кем вы мечтали быть в детстве?
— Моряком. Мой папа был руководителем Балтийского морского пароходства, я готовился к тому, чтобы когда-нибудь выйти в океан с его просторами.
— Почему же вы стали священником?
— Наверное, на нашем языке это называется призванием или откровением. Еще учился в школе и случайно зашел в храм. Мне стало там хорошо, и я решил остаться. Сейчас я настоятель нескольких храмов. Когда воспитается достаточное количество людей, которым можно будет доверить построенные мной хосписы, я смогу спокойно уйти в храм и после службы пить чай с бабушками. Вот мое основное призвание. Но я понимаю, каким должен быть персонал, работающий с детьми. И моя основная роль тут — не стены строить, а готовить кадры.
— Что вы чувствовали, когда в этом хосписе умер первый ребенок?
— Наверное, как и все — беспомощность…
— Но когда вы открывали хоспис, вы понимали, что рано или поздно это произойдет. Вы же не верили в чудо.
— Не понял вопроса… — глаза протоиерея гаснут под очками.
— К сожалению, здесь находятся маленькие люди, которые тяжело больны…
— Чувства не управляются рассудком. Ты можешь знать, что что-то случится, но когда оно случается, ты все равно испытываешь потрясение.
— И потом снова потрясение?
— Острота потрясения зависит от близости к пациенту и его семье. Но любая кончина — метафизический ужас. Для человека неестественно принимать смерть, и невозможно ее осознать — понять, что произошло.
— То есть вы — человек потрясенный?
— Согласен… Я отличаюсь от многих тем, что мне легче, я священник, я стою перед Престолом, я могу задавать вопросы лицом к лицу, и Он отвечает через события жизни, через размышления во время молитвы.
— Кроме того что люди боятся смерти, они еще стараются услышать ответ Бога в том, в чем его нет…
— Не пытайтесь навязать мне образ шизофреника. Я просто говорю о том, что я священник и моя деятельность связана с совершением богослужения… Есть вопросы, на которые нет ответов. Мы их получим, когда увидим Бога лицом к лицу. До этого можно оставаться в благоговейном безмолвии и не пытаться давать ответы на вопросы, которые их не имеют. И просто испытывать сопереживание, сочувствие в ужасающем безмолвии. Желание разделить чью-то судьбу, временно побыть рядом.
— Вы как представитель РПЦ — за вывод абортов из ОМС?
— Если женщина религиозна, она может прислушаться к тому, что говорит религия о таком поступке, как аборт.
— Но вот она узнает, что у ее ребенка патологии, приходит к священнику — к вам. И просит совета. Что вы скажете ей, которая будет страдать, когда родится ребенок?
— Почему страдать?
— Ну, ему будет больно. И ей будет на него смотреть больно.
— Я знаю немало женщин, которые соглашались иметь ребенка с патологией. Они ухаживали за ним до конца, совершая свой гражданский и человеческий подвиг. Да, он может иметь недостатки, но он — личность. К нему надо относиться с благоговением.
— В вашем хосписе так к нему и могут относиться, но во всей стране таких хосписов практически нет.
— Но есть множество центров для поддержки таких детей!
— Скажите — зачем?
— Что зачем?! — его глаза загораются. — Так рассуждали нацисты! Вы сейчас на грани! Сколько сыра и масла съедает инвалид, живущий за счет других?! Но мы, если мы социально ответственное общество, будем поддерживать каждого человека, родившегося на этой земле!
— Родившегося. Но РПЦ желает вывести и аборты по медицинским показаниям из ОМС, считая, что церковь, а не женщина решает, рожать ей страдающего ребенка или нет.
— Чего вы от меня хотите? Хотите узнать, что я скажу той женщине?
— Да. Вы не просто священник, который дает советы, вы потом в хосписе стараетесь облегчить страдания этих детей. Кому знать ответ, как не вам?
— А вы-то сами знаете, как правильно? Что сами скажете ей? Что вы скажете, если к вам придет ваша подруга?
— Я скажу, что это ее выбор, и я ее в любом выборе поддержу.
— Ну не знаю, не знаю, — тихо произносит он, будто боится, что какой-нибудь ангел или фея из буфета подхватит его ответ и отнесет к Творцу. Ответ на тот самый вопрос, который сейчас ответа иметь не может, а может лишь дать благоговейное ожидание ответа перед встречей с Творцом. — Мне кажется, мы говорим об одном и том же, просто разным языком. Если такой вид услуги, как аборт, по медицинским показаниям необходим, то он должен быть предоставлен женщине.
— Вы идете против линии РПЦ?
— Нет. Здоровье матери важней. Ответственность в том, чтобы не манипулировать и не навязывать человеку своего мнения… Вы хотите, чтобы я ответил на вопросы, ответы на которые — только у Бога. Когда-нибудь Он нам ответит. Но, поверьте, мы не призваны сейчас искать ответы на вопросы — мы призваны разделить время жизни с этим ребенком и с этой матерью. Чем мы в хосписе и занимаемся.
Даже когда врачи и медсестры делают все возможное, некоторых зеленых динозавров никак не спасти. Иногда они уходят сразу, если, например, происходит несчастный случай, насилие или война. А бывает, что сердце зеленого динозавра продолжает биться, он шевелит руками, ногами, дышит, ест, разговаривает, слушает птиц, но и он, и любящие его другие динозавры знают — его путешествие близко. И тогда хорошо, если в его жизни появится какой-нибудь протоиерей, вроде Ткаченко, который сформировал внутри себя цельное мировоззрение и, не желая лишать тех, в чью жизнь он на время попал, ответов Творца, построил корабль с феями, камином и кремовыми обоями и вместе с детьми отправился на нем в путешествие по океану жизни — до предела. А в корабле том прорубил секретные иллюминаторы в другой мир, намекающие — тот мир дивен, и бояться его не надо. Да, хорошо, когда рядом со смертью есть протоиерей, учитель или наставник. Так говорит пособие по умиранию для зеленых динозавров. Или пособие по жизни. Ведь известно, какой ответ даст протоиерей, взяв книгу в руки, на вопрос «Чей дух витает в этом хосписе?». «Дух жизни», — без колебаний скажет он.
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.